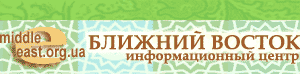 |
|
главная - история - политика - языки - ислам - туризм и отдых - заказ тура - атлас - библиотека - каталог сайтов - фотогалереи - обои - прогноз погоды - музыка и кино - купить книгу - сувениры - поиск - рассылка | |
Алжир - Афганистан - Бахрейн - Египет - Израиль - Иордания - Ирак - Иран - Йемен - Катар - Кипр - Кувейт - Ливан - Ливия - Марокко - ОАЭ - Оман - Палестина - Саудовская Аравия - Сирия - Тунис - Турция | |
Эрнст Карл. СУФИЗМ |
ГЛАВА 19
|
| Истоки персидской суфийской поэзии также кроются в недрах суфийской обители. Ода (касыда) и лирика (газель) полюбились при дворах прежних халифских наместников в Восточном Иране, суфии же для выражения кратких мистических прозрений предпочитали использовать четверостишие (рубай). Сам язык зачастую был прост и непосредственен, отличаясь при этом парадоксальностью. Когда Лбу Сайд приводил эти безымянные стихи, то в своем выборе руководствовался их яркостью и запечатленной в них мыслью. В XI и XII веках персидское четверостишие стало обычным средством суфийской литературы для освещения той или иной мысли. Вот как завершает Айн аль-Ку-дат* обсуждение мистической любви:
Той ночью мой кумир положил свою длань мне на грудь. Крепко обхватил меня и вставил мне в ухо кольцо раба. Я молвил: 'Возлюбленный, я стенаю от твоей любви!' Он прижал свои губы к моим и успокоил меня".
Сцены упоительного экстаза, которые мы встречаем в суфийской словесности, отражающие воздействие музыки и поэзии, где стихи вроде тех, что приведены выше, вырывались из уст непроизвольно, показывают поэзию как средство словесного выражения духовного опыта в наиболее впечатляющих образах.
Как и в арабской суфийской поэзии, ряд предметов и тем мистической поэзии был целиком перенесен на персидскую почву суфизма из светской литературной традиции. Отныне те же самые темы становятся предметом иносказательного толкования, преобразуясь согласно правилам, лежащим вне пределов стихотворного текста. Вино перестает быть разливаемой халифски-Хамадани (1048-1132).
ми слугами материальной субстанцией, становясь теперь обозначением упоения Божественной любовью. Христианские отрок или отроковица, что разливали вино в монастыре, олицетворяют теперь суфийского наставника, Пророка или даже Бога; отличие состояло лишь в том, что кравчим становится местный перс из немусульман, маг (зороастриец), а позже, в Индии, индус. Суть подобного употребления неисламской символики состояла в преодолении общепринятых норм. Суфийская поэзия повествовала не о винопитии, она привлекала образы вина и идолопоклонства, дабы через потрясение ими достичь конечной цели, ради которой следовало пожертвовать благопристойностью и добродетельностью (возможно, по тем же соображениям целомудренные монахи и монахини в христианской Европе обращались к любовной и брачной символике). Образ идолопоклонства действовал особенно вызывающе, но он был связан с поклонением Божественному возлюбленному как идолу, а не с призывом посещать языческие кумирни. В частности, не имело значения, какому идолу призывали поклоняться. Сзади при описании своей знаменитой выходки в храме Со-мнатха* в Индии, штат Гуджарат, для изображения индуистского божества пользуется языком, почерпнутым из зороастрийских, иудейских и христианских источников. Важна была не точность с религиозной точки зрения, а утверждение всепоглощающей любви, которую совершенно не заботит чужое мнение.
Вереница образов персидской поэзии имеют доисламские и исламские корни14. Легендарный персидский шах Джамшид знаменит своей чашей с эликсиром жизни (джам-и джамшид или джам-и джам), которая является не просто царским кубком, но олицетворяет собой мистическое сердце; вглядываясь в него, можно узреть все сущее. Недоступная жемчужина служит гностическим и библейским символом знания, достающегося огромной ценой. Волхвы или зороастрий-ские жрецы соединяются с образом хозяев кабачков и олицетворяют суфийских наставников. Естественно, требуемое для придворных церемоний персидских шахов вино символизирует опьянение мистической любовью. К этой веренице тем присовокупляется череда персонажей, известных из Корана или исламской истории. Изначальный завет, закрепивший отношения между Богом и человеком, часто предстает одним словом из коранического текста; с той поры, когда потомки сынов Адама утвердительно ответили на вопрос Бога: 'Не есть ли Я Господь ваш?' (аласту би-раббикум), это время на персидском языке известно как 'день "не есть ли Я"' (руз-и аласт). Иногда для этого употребляются просто слова 'последняя ночь', поскольку вчера было первым днем творения, сегодня есть бытие мира, а завтра будет воскресение. Благодаря чудесам, включая превращения собственной руки в совершенно белую* и обретение в темноте живой воды, заметное место занимает Моисей. Но он все же играет второстепенную роль по сравнению с вечно живым пророком Хидром, чье эзотерическое знание, полученное от Бога, делает его учителем Моисея. Противник Моисея волхв-самирит представляет собой злого обманщика, но тем не менее его хитростями восхищаются. Пророк Иисус предстает искусным лекарем. Его дыхание возвращает мертвого к жизни, как и слова, что воскрешают убиенных птиц. Наряду с этими образами Священного Писания часто выступает образ Халладжа. Постоянно ссылаются на его мученическую смерть и восклицание 'Я есть Истина!'. Любовная лирика особо сосре доточена на описании внешних черт возлюбленной.
* Арабск. Сумната. Там он разоблачил шарлатанов - жрецов храма - и спасся бегством. От проказы (Исх. 4:6-7).
Наиболее характерными из них являются луноликость и черные косы, которые отражают нераздельные Божественные качества милости и гнева, ислама и неверности. Образ женских кос с нескончаемыми вариациями предстает в виде силков, пленяющих влюбленные сердца, при этом брови уподобляются лукам, выпускающим стрелы, которые смертельно ранят. Персидские сады, известные своей славой еще с античности, служили поэтам для создания наиболее запоминающихся образов. Стройный кипарис намекает на стан возлюбленной, отражаясь в образе райского дерева. Именно сюда усядется птица души, когда вознесется на небеса. Соловей ли это, одиноко поющий розе, либо вернувшийся к небесному охотнику сокол - их домом является райская обитель, где живет подобная Фениксу вещая птица Симург. Этот список образов можно дополнить иными символами, почерпнув их из большой вереницы традиционных космологических наук, включая астрологию и алхимию, с которыми знаком любой образованный человек. Арабскую и персидскую суфийскую поэзию, однако, невозможно отделить от традиции придворной поэзии. Исходя из их социального окружения, может показаться, что поэзия, бытующая в суфийских обителях, где прославляются Божественная любовь и крепкие узы, связующие наставника и ученика, имеет мало об-шего с официальными одами, которые сочиняли профессиональные поэты в честь своих знатных покровителей. Пространные и необычные панегирики, адресуемые правителям, отвергаются современными западными критиками как грубая лесть. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается, что большая часть придворной поэзии проникнута теми же самыми образами, что были в ходу среди суфиев. Одинаковые стихи в одной ситуации воспринимались как восхваление обычного вина и земных страстей, тогда как в иных обстоятельствах их можно было бы истолковать как мистическое опьянение и Божественную любовь. Многие стихи, имевшие хождение в суфийских обителях, на самом деле были созданы при дворе. В равной мере можно было воспринимать эти поэмы обращенными и к царскому покровителю, и к суфийскому наставнику, и к Богу, и к прекрасному отроку, разливающему вино на пирушках. То мастерство, с которым поэт наподобие Хафиза мог вызвать в уме читателя одновременно все эти смыслы, делает почти невозможным приемлемый перевод.
Многие качества возлюбленных в этих стихах отражают идеал отроческой красоты, который возник при тюркско-иранских дворах Средней Азии: луноликость, ловкость при игре в мяч на лошадях, длинные локоны, пробивающиеся усы, стройный и гибкий стан и жестокое безразличие к страданиям любящего. Это был образец мужской однополой любви, запечатленный в рассказах о султане Махмуде Газнави (971 - 1030; основатель династии Газнавидов) и его возлюбленном рабе Аязе, составивших основу как придворной, так и мистической любовной лирики в персидской традиции. В бесчисленных панегириках и лирических стихах, посвященных царям и вельможам, поэты взяли за обыкновение представлять предмет поэтического восхваления (мамдух) в виде возлюбленного (машук). Это могло бы привести к неловкому положению, когда, обращаясь с похвалами к мужчине средних лет, его выставляют в образе статного пятнадцатилетнего отрока; но это были скорее принятые при дворе условности вознесения хвалы, нежели описание действительных любовных отношений. Поэмы Сзади адресовались правителям Шираза, но отраженное в них страстное томление по любви и красоте делало их желанными и в кругу суфиев. Возможно, наиболее ярким примером
того, как тот же самый стих мог выполнять обе задачи, являются арабские 'винные' стихи Абу Нуваса, написанные в светской манере высмеивания религии, но столь эстетически прекрасные, что персидские суфии приняли их, истолковав в мистическом ключе15. Другими словами, в самих стихах не было ничего мистического; мистическое толкование было освящено обстоятельствами, внешними по отношению к содержанию стихов. Можно зайти столь далеко, что суфийская поэзия предстанет как поэзия, которую декламируют и ценят исключительно суфии; тогда основным требованием суфийской поэзии будет то, чтобы ее истолковывали согласно предписанным мистическим нормам.
Как указывалось выше, арабская и персидская поэзия имела строго определенные образцы рифмы и размера, существовали также и строго установленные правила относительно содержания, чтобы стихи получили одобрение. Некоторые читатели, возможно, полагают, что в суфийских стихотворениях следует видеть эпизоды автобиографии как личное свидетельство внутреннего опыта. В действительности подобный подход чужд суфийскому пониманию поэзии. Большинство современных литературных критиков, независимо от того, какую традицию они исследуют, просят своих студентов избегать подобной биографической трактовки. Подлинным предметом поэзии являются те переживания, которые вызывает стихотворение у читателя, и оно входит составной частью в литературную традицию (continuum), к которой постоянно обращаются поэт и читатель.
Суфийские руководства наставляют новичка, чтобы тот толковал любую поэзию, независимо от происхождения, в заданном ключе: возлюбленный означает Бога; вино означает духовное упоение. Как замечает один историк персидской литературы со ссылкой на известного суфийского поэта: 'Аттар, в сущности, ничего не сообщает нам о себе, его стихи едва ли содержат хоть какой-то намек на современные ему личности или политические события и главным образом заключены во вневременном мире мистицизма'16. Антологии персидской литературы часто заполняют этот пробел посредством выдуманных историй, которые как бы персонифицируют поэзию, представляя якобы имевшие место события, которые рождались благодаря возникающим ассоциациям с отдельными словами и отрывками в самом стихотворении. Так, на основе некоторых отдельных упоминаний об Индии в поэзии Хафиза позднейшие писатели сочинили замысловатые истории, где рассказывается об общении Хафиза с правителями Декана и Бенгатии. Из выражения 'сахарный тростник' (шах-и набат), обычного имени возлюбленного, читатели придумали романтическую историю о любви Хафиза к прекрасной персидской девушке, ради которой он решился на тяготы сорокадневного затвора, который, однако, открыл ему врата мистического опыта. При всей занимательности данной истории близорукое ее прочтение не позволит увидеть один важный момент: если Хафиз был великим мистическим поэтом, он прежде всего был поэтом. Персонифицированная поэзия не позволяет читателю понимать поэзию как литературу и сознавать, что символическая аллюзия служит в качестве фигуры речи, тропа. Вместо этого я бы настаивал на необходимости понимания поэзии через те условности, что приняты поэтами, в рамках которых они и понимают свои собственные сочинения.
В качестве примера хотелось бы рассмотреть персидское стихотворение, порой приписываемое Хафизу, но исключенное большинством современных издателей из изданий его стихов. Следует заметить, что подобная ситуация отражает отсутствие общего согласия относительно того, по каким критериям определять подлинность текстов Хафиза. Здесь дается почти дословный перевод: Боже Всевышний! Какова моя удача ныне ночью. ибо мой Возлюбленный пожаловал нежданно ныне ночью. Увидев Его прекрасный лик, я поклонился.
Славься, Боже, ибо я счастлив ныне ночью. От единения с Ним распустился цветок моей радости;
от моего везения я стал богатым ныне ночью. Кровь возопит на земле: 'Я есть Истина', если Ты отправишь меня на виселицу ныне ночью.
Повеление 'Ночи Предопределения' достигло моего понимания из моего неусыпно возникающего знамения ныне ночью. Я решился, что, если умру, провозглашу свою тайну с небес. Ты богат; я обращаюсь с просьбой:
дай милостыню, ибо у меня праведная ныне ночь. Я боюсь, что Хафиз изгладится из сумятицы в моей голове ныне ночью1'.
В устной традиции и в некоторых комментариях можно встретить объяснение, что данное стихотворение писалось ночью, когда Хафиз испытал духовное просветление (конечной рифмой поэмы является слово ночью). Отчасти это было бы автобиографическое прочтение стихотворения, а отчасти толкование стихотворения как отражения частного мистического опыта. Следует попутно заметить, что прочесть его могут еще как обычный придворный стих, восхваляющий покровителя и просящий о награде.
Подобное персонифицированное прочтение, когда оно считается единственно верным для понимания стихотворения, становится весьма сомнительным, стоит нам взглянуть на само стихотворение как часть литературной традиции. Хафиз был далеко не обособленной фигурой. Персидская лирика существовала уже четыре столетия, когда тот обратился к сочинительству. На консервативный характер традиции указывает то обстоятельство, что поэты вроде Хафиза глубоко знали стихи предшествующих поэтов; их собственные сочинения часто оказывались перепевом более ранних стихов, преднамеренно облекаемых в ту же самую рифму и тот же размер и использующих те же самые образы и темы. Ни один из образов Хафиза не был изобретен им самим. В приведенном выше стихотворении среди общепринятых образов мы находим ссылки на Халладжа, 'Ночь Предопределения' из Корана и образы из астрологии и исламского права. В формальном сходстве любого взятого стихотворения с предыдущими стихотворениями можно легко убедиться, взглянув на сам персидский текст. Современный комментатор Хафиза отобрал пятьдесят страниц примеров удивительно близкого сходства между стихами Хафиза и тринадцати более ранних поэтов, с XI века до его дней, и этот список далеко не исчерпывающий"*. Подобные прецеденты свидетельствуют, что Хафиз вел заочный диалог со многими предшествующими ему поэтами. Бросая вызов своими стихами, Хафиз стремился побить поэтов их же собственным оружием (состязание, которое носило особую остроту для его современников, как, например, Хваджа Кермани, к которому Хафиз обращается в десятках своих стихотворений).
Если мы взглянем на сочинения предыдущих поэтов, то легко отыщем примеры схожих стихотворений, где приведенный выше стих объясняется с литературной точки зрения. У Аттара есть два стихотворения с той же самой конечной рифмой, а Руми сочинил целых три стихотворения с той же конечной рифмой, которые по манере и духу близки стихам Хафиза. Ряд более поздних персидских поэтов, включая Файзи Ка-шани, Абула Файзи (1547-1595/1596), Урфи (1555-1590), Мирзу Абдулкадира Бедиля (1644-1720) и Мирзу Талиба (1796-1869). также откликнулись на эту рифму19. Стихотворение Хафиза имеет некоторые обише элементы с двумя стихами Руми, включая фразу 'Славься, Боже', и сравнение с Халладжем: 'Тотсамый огнь, что обитал в Халладже, // Нашел обитель в душе моей ныне ночью'. Следует также помнить, что 'ночь' служит символом как темноты сего мира, так и времени молитвы и музыкальных радений. Само стихотворение лучше всего воспринимается в свете литературной традиции, нежели конкретной мистической автобиографии. Единственный известный нам автограф Хафиза - это находящаяся в Ташкенте рукопись, содержащая поэмы Амира Хосрова Дехлеви (ум. 1325), прекрасного персидского поэта, прославившегося сложностью образов своей лирики. Отсюда можно заключить, что Хафиз, подобно другим поэтам, при случае не только подрабатывал переписчиком, но и был близко знаком с сочинениями своих предшественников.
Был ли Хафиз не только поэтом, но и суфием? Здесь вновь встает вопрос, что же такое мистическая поэзия. Несомненно, было много мистиков, которые вообще не предавали гласности свои переживания, и много других, которые обращались к прозе, всегда жалуясь на скудость слов. Поэзия - это искусство и ремесло, которое не обязательно является мистическим; отчасти это дар, отчасти плод тяжелого труда. Поэзия служит для эстетического воздействия посредством рифмы и размера и для эмоционального воздействия через содержание; для суфиев должным образом толкуемая поэзия представлялась особенно мощным средством воздействия в связи с ритуальным слушанием музыки. Вполне можно было написать стихи в суфийской манере, не являясь практикующим мистиком. Не будет преувеличением сказать, что все крупные придворные персидские поэты XVII века писали стихи, полные суфийской образности, хотя немногие из них по-настоящему были связаны с суфийскими братствами. Как заметил великий иранский ученый Касим Гани, из чтения стихов Хафиза мы можем только заключить, что тот был поэтом. В отличие от тех сочинителей, которые в первую голову известны как суфии, он не писал открыто о мистицизме и предметах суфизма, но пользовался словарем и стилем поэтов. Мистический опыт разнится с поэзией, и здесь можно сослаться на то, что экстаз едва ли согласуется со строгими правилами рифмы и метрики20. Хафиз также был придворным поэтом, как видно из более полусотни его стихов, где он открыто упоминает имена различных правителей и визирей династий Инджуидов и Музаффаридов, правивших в Ширазе в XIV веке; можно предположить, что многие другие свои стихи он посвящал двору, но без прямого упоминания своих покровителей21.
Разумеется, Хафиза также очень любили суфии, и ряд комментариев к его стихам был написан с мистической точки зрения. Но существовали и другие толкования Хафиза, который прославился прежде всего завораживающей неоднозначностью стихов; среди его поклонников в нынешнем веке мы видим и руководителя иранской коммунистической партии, и Аятоллу Хомейни. Можно встретить серьезных писателей, утверждающих, что Хафиз был выразителем чаяний пролетариата или что он был провозвестником исламской революции 1979 года22. Некоторые свидетельства указывают, что Хафиз мог быть посвящен в суфийское братство Рузбихани через посредство шейха Махмуда (или Мухаммада) Аттара (не путать с поэтом Фарид ад-Дином Аттаром)23. В этом отношении Хафиз походит на своего предшественника Амира Хосрова Дехлеви, который был посвящен в орден Чишти великим наставником Низам ад-Дином Аулийа, когда был придворным поэтом у семи сменивших друг друга правителей Дели. Но, вероятно, лучше всего это изложено у суфийского биографа Руми, который в конце своего сборника житий суфийских святых наряду с биографиями целой вереницы великих персидских поэтов кратко описывает и жизнь Хафиза. При этом он отмечает: 'Хотя неизвестно, находился ли тот в учениках у наставника или поддерживал должные отношения с суфизмом посредством члена этой группы, его стихи, однако, столь прекрасно согласуются с учениями данной группы, что никто это не оспаривает'24. Не так важно, кем был Хафиз, важнее восприятие его стихов читателями. В той мере, в какой ценили и декламировали его поэзию суфии, и в одиночестве, и в обрядовых действиях, мы можем считать его суфийским поэтом, а высокая степень признания позволяет назвать его значительным суфийским поэтом25.
Никакое обсуждение персидской мистической поэзии не было бы полным без упоминания имени Руми, урожденного Джалал ад-Дина Мухаммада (1207-1273). Он появился на свет в городе Балхе (ныне Афганистан) и ребенком очутился в Малой Азии, где его отец, известный богослов и мистик, нашел убежище при сельджукском дворе в Конье как раз накануне вторжения монголов в Среднюю Азию. Он известен под разными именами. Афганцы величают его Балхи, персы - Мау-лави, турки зовут Мевлана (от арабского слова, означающего 'наш господин'). Само имя Руми происходит от прозвания восточных областей прежней Римской империи (ныне входящих в состав Турции), известных по-арабски как Рум*. Руми является автором огромного собрания лирических стихов 'Диван Шамса Тебриз-ского'**, а также мистической эпической 'Поэмы о сути всего сущего'***. История его службы в качестве проповедника и богослова, встречи с загадочным дервишем Шамсуддином из Тебриза и последующего превращения в выдающегося мистика раньше была у многих на устах26.
* Отсюда слово ромеи - так звали граждан Византии.
** 'Дииан-и Шамс-и Табриз', около сорока тысяч стихотворений. *** 'Месневи-и манавн'. двадцать пять тысяч стихотворений. В определенной степени эта история показывает то, как странствующий каландар (Шамсуд-дин) мог бесповоротно изменить жизнь уважаемого суфия (Руми). Как и в случае с Хафизом и Ибн аль-Фа-ридом, стихи Руми в Новое время часто прочитывались как явное выражение его личного опыта мистика. В более ранние времена его поэзия воспринимааась как изложение суфийского учения; подобно поэзии Ибн аль-Фарида, поэзия Руми (особенно 'Месневи') нередко преломлялась сквозь призму метафизики Ибн Араби27. Облегчали понимание этих преломлений - иначе говоря, толкований, которые отражают значимость поэзии как таковой, - те пометы, которые делал Руми в записях своих бесед, указывая, что ему лично поэзия претила; он уподоблял сочинение стихов приготовлению требухи, согласуясь со вкусами гостя. Учитывая небывалое количество написанных им стихотворений, к подобному заявлению, пожалуй, следует относиться с недоверием. Порицание поэзии схоже с частыми страстными мольбами о тишине, которыми завершается почти тысяча его лирических стихотворений. Знаток персидской литературы Фатемех Кешаварз недавно с большим умением показал, что Руми этими риторическими фигурами указывает на разрыв между языковыми возможностями и невыразимостью словами встречи с Истиной28. Подобно всякой апофатической теологии, указывающей на запредельность Божественного, поэзия Руми отвечает запросам взыскующих, находя свое лучшее выражение будучи сопровождаема ритуальной суфийской музыкой (см. главу 7).
Следует подчеркнуть, что, как и Хафиз, Руми писал в рамках литературных условностей, хотя и не служил придворным поэтом; между тем он по-настоящему свободно, как никто другой, обращался с поэзией. По-
эты того времени подписывати собственные стихи псевдонимом, Руми же вместо этого нередко использовал имя своего мистического проводника, яркий пример - название собрания его лирики: 'Диван Шамса Тебризского'. Он забавляется бессмысленными словами, каламбурами, украшает свои стихи музыкальной и танцевальной символикой. Вместе с тем Руми был невероятно ученым человеком, и многие места в 'Месневи' требуют разъяснений. Подобно Хафизу, он часто перепевает знаменитые строки более ранних поэтов. В качестве примера можно взять газель, начинающуюся со строки: 'Говорят, что помер Санаи', которая, очевидно, побуждает читателя видеть в суфийском поэте Санаи предшественника Руми. Следует, однако, заметить, что это стихотворение не является откликом на некое современное Руми событие (Санаи умер в 1131 году), оно построено по образцу стихотворения, написанного тремя столетиями ранее на смерть поэта Рудаки (ок. 860-941). Руми, конечно, был знаком с огромным богатством преданий, которым прежде пользовался Аттар в своих мистических эпических поэмах. Он также показывает свою осведомленность в классической арабской поэзии, особенно ценя стихи аль-Мутанабби (916-965).
Особенно трудно передать в переводе такую черту персидской поэзии, как ее двуязычный характер. От сорока до шестидесяти процентов словаря персидского языка заимствовано из арабского, и в стихах Руми часто встречаются целые предложения и даже строки, написанные по-арабски. Это особенно заметно в таких местах, как вступление к 'Месневи' (1:128-129), когда после просьбы Хусам ад-Дина, ученика Руми, рассказать о Шамсуддине тот переходит на чистый арабский - величественный язык Божественного Корана и язык пылкой любви: 'Не беспокой меня, ибо я растворился! Мои мысли изгнаны, посему я не могу "подсчитывать твои восхваления". Что бы ни говорили непросветленные, все тщета, и неважно, как они рисуются или пыжатся'. Одна только мысль о Шамсе вызвала в Руми состояние растворения, уничтожения 'эго', подчеркиваемое цитированием Пророка Му-хаммада, когда тот напрямую обращался к Богу и признавался в неспособности превозносить бесконечное. Это можно было бы сделать, лишь перейдя на более высокий регистр арабского языка - ввиду его нерасторжимой связи с Кораном и классической арабской поэзией. Публика, для которой Руми писал такие строки, очевидно, была сведуща в литературных условностях персидского и арабского языков, религиозной исламской традиции и особого словаря суфизма, созданного на протяжении столетий.
Как можно соразмерно передать в переводе эстетическое воздействие перехода с персидского на арабский язык?
Другим примером такого воздействия может послужить стихотворение Хафиза, который известен тем, что включал в персидские стихи много арабских слов (арабские слова выделены здесь курсивом):
Сие горькое снадобье, что суфий именует матерью греха, более ароматно и сладостно нам, нежели поцелуй
девственницы.
Здесь прославляется вино, и получаемое потрясение от запрещенного удовольствия усиливается изысканностью самого языка.
Сто лет назад один английский переводчик, чтобы добиться подобного воздействия, попытался воспользоваться латынью для передачи арабского текста, надеясь, что многие читатели это оценят:
That bitter stuff the Sufi calls mater malorum nobis optabilior et dulcior quam osculum virginis29.
Однако это были напрасные потуги.
|